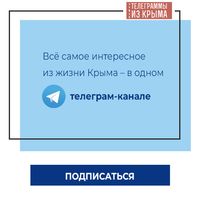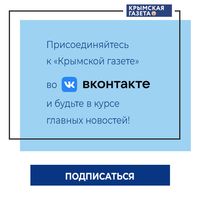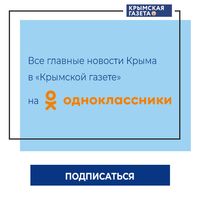О новых крымских монстрах, шокирующих находках учёных и необычных заказах на чучела нам рассказал зоолог-таксидермист, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского Александр Стрюков.
ОПАСНЫЕ ИНОЗЕМЦЫ
– У вас за плечами более 30 лет научной работы. Какими открытиями или наблюдениями особенно гордитесь?
– Я застал времена, когда наша кафедра фактически была центром мировой паразитологии. Мы работали с морскими млекопитающими: синими китами, финвалами, моржами, тюленями. Материал привозили со всего земного шара: с островов, континентов, из Антарктики. И всё это до сих пор хранится в коллекциях кафедры. Первое серьёзное открытие – паразиты мирового океана. Но для Крыма важнее другое – мониторинг паразитов диких животных. И здесь я могу сказать, что некоторые паразиты не только ослабляют зверей, но и сокращают численность целых популяций.
– Например?
– Самый яркий пример – зайцы. Были версии, что их гибель связана с клещами. Клещей действительно много, некоторые опасны и для людей. Но основной удар – это внутренние паразиты, особенно лёгочные. Для понимания масштаба: в лёгких заражённого зайца могут жить тысячи червей-протостронгилюсов. А личинок – миллионы.
– Это опасно и для людей?
– Да. Есть ещё паразит, которого я впервые зафиксировал в Крыму, – пятиустка. Это уже не червь, а ракообразное. Может проникнуть в человека. В мире есть зафиксированные летальные случаи. Не у нас, к счастью. Но сам факт: я встретил этот вид в Крыму. Есть и огромная проблема с печёночными паразитами у травоядных. И тут важно понимать: дикие животные могут быть переносчиками того же, что способен переносить человек. У нас, например, ланцетовидной двуустки (плоский паразитический червь. – Ред.) – туча. Любые пастбища с моллюсками – и получаем идеальные условия для их размножения.
– Коллеги из федеральных центров обращались к вам по каким-то находкам?
– По волкам. У нас есть новый вид-вселенец. Начали спрашивать о паразитах, которых он мог принести. Но работа застопорилась: волков добывают по лицензии, их немного, материалы ограничены. Нужно понимать, что, если в регион приходит новое животное, оно приносит и новые болезни. Особенно волнуют нас те, кто пришёл в Крым недавно. Инвазивные виды. Их очень много. И это куда опаснее, чем кажется.
– Откуда берутся новые для региона виды?
– Толчок дала подготовка к Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Город активно озеленяли, в том числе саженцами, завезёнными из-за границы. А вместе с ними завезли вредителей – насекомых, червей. Потом они распространились по регионам. Самый известный пример – самшитовая огнёвка. Бабочка красивая, но выела самшитовые рощи в Сочи «под ноль». Потом добралась до Крыма. У нас исчезли целые живые изгороди вдоль улиц – они просто съедены. Дальше – коричнево-мраморный клоп, дубовая и платановая кружевницы. Есть данные о червях, которые могут уничтожать наших дождевых червей. А это уже удар по всей экосистеме.
ТЕПЛЕЕ, ЕЩЁ ТЕПЛЕЕ…
– Наверное, и изменившийся климат в Крыму привлекает таких «иностранцев»?
– Конечно. Зим в Крыму нет. Животные, привыкшие к Южной Европе, попадают к нам и чувствуют себя как дома. У них нет естественных врагов. Никто не «заточен» охотиться на них – ни птицы, ни хищники. Природе нужно время, чтобы подобрать противовес. Иногда на это требуются десятилетия. Например, калифорнийский окунь появился в начале двухтысячных, вёл себя как хозяин водоёмов, выедал всё. И только в последние пару лет его стало меньше. Значит, экосистема наконец начала его «переваривать».
– Я услышала от вас много важных заявлений, которые касаются и людей. Эти данные уже взяли в работу?
– Теоретически можно разработать программы, включающие дегельминтизацию, санитарные мероприятия, контроль среды... Мои данные приняли к сведению, но на практике никакие меры так и не предприняли. Тут всё непросто. Кишечных паразитов вывести можно относительно легко. А вот лёгочных – нет. Их можно убить, но потом мёртвый паразит остаётся в лёгких как инородное тело. Это тоже вредно. Поэтому правильнее бороться с личинками. Самый простой путь – химия. Но сейчас во главе угла «зелёная» повестка, экология, отказ от пестицидов, химические методы не приветствуются. Идёт поиск биологических решений, а это долгая история.
– Если химия не вариант, то-гда разработали бы вакцинацию от этого вида паразитов...
– Это должны подхватить те, кто занимается вакцинами, иммунологией, эпизоотией. Если этим заняться всерьёз, думаю, что-то можно разработать. Но сейчас работа не начата. Ко мне регулярно обращаются: «Волков стало больше? Шакалов?» Я могу ответить в общих чертах: да, появились, да, потенциально опасны как переносчики паразитов, инфекций или как хищники, влияющие на сельское хозяйство. Но это всё остаётся на уровне отчётов. Наука, по большому счёту, держится на инициативе.
– Но ведь должен быть какой-то центр, который собирает данные учёных, передаёт ведомствам и внедряет решения.
– Формально такие структуры есть. Мы взаимодействуем, передаём данные, публикуем научные статьи, сообщаем СМИ. Мы – первая линия обнаружения проблемы. А оценивать качество реакции я не могу.
– Разве учёные не стремятся видеть, как открытия работают в реальной жизни, приносят пользу обществу и меняют процессы, а не остаются на бумаге?
– В идеале – да. В реальности это адски сложно. На бумаге всё гладко, а в жизни – овраги. Я приведу пример. Моя жена – энтомолог. На Южном берегу Крыма появился вредитель – ицерия. Она уничтожала парк Айвазовского, Никитский ботсад… Листья становились чёрными, липкими. Можно было залить всё химией, но это курорты, туристы, рекреация… Нужен был другой выход. Жена с коллегами выяснила, что у ицерии в природе есть единственный враг – австралийская божья коровка рода Rodolia. Ицерия тоже родом из Австралии, её завезли вместе с растениями. В Абхазии в советское время уже проходили через это, и тогда завезли родолию. Учёные сами организовали поездку, нашли этих божьих коровок, привезли, размножили и выпустили. И вот уже два-три года ицерии практически нет. Но перед этим они прошли не семь, а семьдесят кругов ада.
– Крым также регион с уникальной акваторией. Что сейчас изучает кафедра в морских и пресноводных экосистемах?
– Пиранью ловили, но это, скорее всего, выпущенный домашних питомец. Выжить смогла, размножаться – нет. А вот куда серьёзнее история с плоскими червями. Вид, который раньше в Крыму никогда не встречался, – Obama nungara. Огромная наземная планария, похожая на слизня. Она живучая до абсурда: разрежьте на части – каждая станет новым червём. Отрежьте голову – вырастет вторая. И это хищник, который питается дождевыми червями. А они, в свою очередь, делают почву более рыхлой и плодородной. Уберите дождевых червей – и экосистема просто схлопнется. И вот появляется вид, который может буквально уничтожить основу почвы на корню. Попал он к нам вместе с зелёными насаждениями. В худшем сценарии появление этого червя может привести к катастрофе.
– А были уже тревожные «звоночки»?
– Вспомните Чёрное море: с балластными водами попал гребневик – медузоподобное животное. Выел весь планктон и икру рыб. Промысел хамсы рухнул моментально. Спасло море только одно: совершенно случайно попал другой вид гребневика, который начал есть первого.
– Насколько сильное влияние оказывает человек на море?
– Самое разрушительное. Но не охотники и не рыбаки, а экскаваторы. Стройки, передел берегов, уничтожение целых участков природы – вот где удар. Cамый яркий пример – разлив нефти. У меня в лаборатории лежит около сотни птиц, погибших именно из-за него. Это только те, которых нашли, попытались отмыть, спасти, но не успели. Смело умножайте эту цифру на десять. Популяции «просели» чудовищно. И самое печальное – службы, которые должны были контролировать ситуацию, прекрасно видели слабые места. Но момент был упущен. Масштаб урона экосистеме колоссальный.
– Два года работает новая программа «Водные биоресурсы и аквакультура». Успели увидеть реальные результаты?
– Развитие аквакультуры в Крыму – перспективнейшее направление. Оно позволит не возить рыбу и морепродукты непонятно откуда, а есть местную форель, мидии, креветки. И завтра том-ям будет из крымской рыбы, а не из импортной. Мы пока в начале дороги – второй год идёт. Говорить о громких победах рано. Но у нас уже есть студенты, которые работают в ИнБЮМе (Институте биологии южных морей. – Ред.) в Севастополе и с рыбами, и с планктоном, и с бентосом. Есть сотрудник, который одновременно занимается водорослями и у нас, и в ИнБЮМе. Севастополь разрабатывает методики выращивания и использования морской аквакультуры, например, полезных водорослей, направление бурно развивается, и наши учёные в этом тоже уже участвуют.
НУ И ЧУЧЕЛО!
– Не можем обойти вашу вторую профессию – таксидермию. Вы говорили, что интерес к ней появился ещё до учёбы, во время охоты. На кого охотились? Из кого сделали первое чучело?
– В основном степная дичь: птицы, зайцы. Лесная охота у меня не пошла. Один раз мы поехали на оленя. Раннее утро, туман, охотники вокруг… И вдруг прямо передо мной из леса выходит громадный олень с рогами, как в мультфильме. Теоретически я мог выстрелить, а физически не смог. Такое животное убить – и что дальше? Просто съесть? А красота исчезнет. Второй случай – вышла лань. У неё такие глаза были… красивые, женские. И я снова не смог выстрелить. Понял, что слишком мягкий для крупной охоты.
Но охотником всё равно оставался и мечтал повесить на стену фазана. Принёс первый трофей друзьям, которых считал знатоками в таксидермии, и они его испортили. Ни чучела, ни ужина. Второй – тоже в мусор. На третьем я пошёл к мастеру кафедры и под её руководством научился делать чучела.
– А сегодня ваши чучела собраны в зоомузее. Насколько велика ваша коллекция?
– Около пятидесяти экспонатов. Плюс музейная коллекция, которая растёт постоянно. У нас уникальная ситуация: в отличие от многих музеев, у нас есть школа таксидермии. Студенты приходят – и коллекция пополняется регулярно. Раньше это были в основном крымские животные и экспедиционные находки. Сейчас – экзоты: крокодилы, черепахи, рыбы.
– Какими экзотическими животными может похвастаться коллекция?
– Например, у нас есть арапайма – огромная амазонская рыба до 2,5–3 м длиной, весом 150–200 кг. В ИнБЮМе одна больная погибла, другая выпрыгнула из аквариума и разбилась. Из зоопарка привезли леопарда. Самка умерла во время родов. Привезли целиком. И впервые я сделал из одного животного два экспоната: полный скелет и таксидермическую тушу. Из серии «Максимальное использование материала». А после того самого потопа в Ялтинском зоопарке, когда погибли крокодилы, их тоже доставили к нам.
Стоит у нас в музее медведица Маша, бывшая обитательница зоопарка. Она оторвала девочке руку и была наказана.
– Девочка, наверное, сама пролезла в клетку? Как медведица оказалась виноватой?
– История очень запутанная. Девочке было пять лет. Она случайно уронила конфету в промежуток между прутьями. Отец пересадил дочку ближе, чтобы та смогла достать свою конфету. В этот же момент медведица, тоже без какой-то злобы, потянулась к конфете. Хватая лакомство, она случайно зацепила руку и резко дёрнула – вот так её и оторвало. На общей комиссии тогда решили, что Маша не виновата. Но уже после инцидента что-то в ней изменилось, она почувствовала кровь. Спокойная раньше медведица начала бросаться на сотрудников, проявлять агрессию, будто в ней проснулся хищник. Тогда стало понятно: держать её дальше в зоопарке невозможно.
– Вспомните ещё эмоционально тяжёлые или странные заказы.
– Как-то приходит женщина – заплаканная, вся разбитая. Спрашивает: «Сможете сделать из моего сыночка чучело?» У меня холодок по спине: «В смысле – сыночка?» Уходит, возвращается с большим свёртком. Разворачивает, а там… крокодил! Жил у неё в ванной. Она одна, никого нет, вот и называла его сыном. Говорит: «Это всё, что у меня было». Мы сделали чучело. Но она так и не забрала, поэтому оно осталось в музее.
Каждый день люди звонят с просьбами про кошечек и собачек. Это тяжело. Я всем осторожно отказываю: домашних животных не беру.
– Почему? С ними наверняка проще работать, чем с медведями и леопардами?
– Наоборот, тяжелее всего! Во-первых, морально. Как можно превратить домашнее животное в чучело? Похорони, вспоминай, смотри фото – это нормально. Я своих так и провожал. Во-вторых, технически. У каждого животного есть лицо. Характер. Даже у овцы. Я в детстве пас тридцать овец и каждую знал в лицо, по имени. А для постороннего они все одинаковые. Но если поставить ряд диких кабанов – они все будут разными. А теперь представьте: я никогда не видел конкретного «бобика» при жизни. Как я смогу передать его точное выражение морды? Его характер? Это невозможно. И лучше честно это сказать, чем сделать «лису с ушами собаки».
– Самый масштабный и тяжёлый проект?
– Двухметровый медведь. Человек вырастил его буквально с размера плюшевой игрушки, а потом медведь вырос и стал гигантом. Два метра, килограммов пятьсот. И владелец его застрелил. Попросил сделать чучело и – внимание! – чтобы он стоял, как официант, с подносом. Это была инженерная стройка. Варили металлический каркас сваркой, иначе не выдержал бы. Туша огромная, тяжёлая. Очень сложная работа.
– Как вообще проходит процесс таксидермии? Что самое сложное?
– Первый ужас – это препарация. Вскрытие, снятие кожи, очистка, обезжиривание, стирка. Потом начинается «мужская» часть: пилы, свёрла, проволока, болгарки. Таксидермия – это одновременно и хирургия, и «слесарка», и шитьё, и лепка, и инженерия. Там нет профессии, которая бы не пригодилась.
– Сколько времени уходит на одно чучело?
– В среднем три месяца.
– Как добиться того, чтобы животное выглядело как живое?
– Всё решают морда и глаза. Глаза можно делать самому: оргстекло разогреть, выдавить на форму, нарисовать радужку. Но в музейных экспонатах чаще стоят заводские. Кожа всегда натуральная. Язык и глаза – искусственные. Зубы стараюсь оставлять родные. Они лучше всего передают «личность».
– Сколько на этом можно заработать?
– Сейчас частными заказами не занимаюсь. Теоретически за фигуру зайца или фазана можно получить 3–5 тысяч рублей, 30 тысяч – голова кабана. За того медведя заплатили 500 долларов, это было в 90-х годах.
– Почему отказались от частных заказов?
– Потому что люди хотят не просто оленя, а чтобы он смотрел ровно на 30 градусов вниз, под нужным углом, потому что он висит на лестнице и должен «встречать» хозяина взглядом. Были запросы на «атакующего», «напуганного», «пугающего». А ещё это адски тяжёлая работа. Лося с огромными рогами не затащишь целиком по лестнице. В какой-то момент я сказал себе: «Хватит! Это не про творчество и не про науку».
– Есть ли у таксидермистов профессиональная деформация? Всё-таки работа специфическая…
– Я понимаю, что со стороны такое увлечение выглядит странным. Но оно приходит постепенно, чаще всего через охоту или рыбалку. Человек впервые поймал щуку: красивая, трофейная. Хочется сохранить момент. С этого всё и начинается. Для большинства людей чучела – это кладбище животных. А для нас – инструмент изучения природы. Так же, как когда-то анатомы препарировали людей, а их сжигали на кострах за «кощунство». А без этого не было бы медицины вообще!
Диана МАСЛОВА.