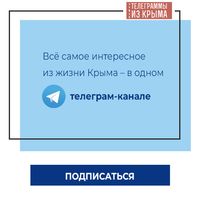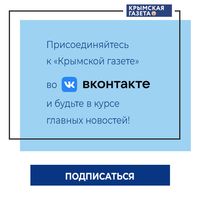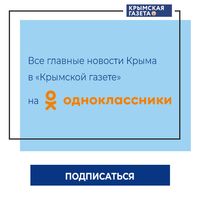«Жизнь – черновик выдумки»
Так говаривал Александр Грин. Писатель испытал в Крыму взлёт творчества, обрёл собственный дом и завершил земной путь. Исполнилось 145 лет со дня рождения «полезного сказочника».
Оттенки Севастополя
К 23 годам Александр в поисках счастья изрядно исколесил по миру: ни моряка, ни золотоискателя, ни солдата из него не получилось. Однако молодого бунтаря заприметили социалисты-революционеры. В начале XX века эсеры стали крупнейшей политической партией в России и продолжали расширять сферы влияния. Руководство приняло решение внедрить харизматичного Гриневского в армейскую среду и направило его в Севастополь. Здесь Студент, он же Долговязый, попал в поле зрения жандармов и осенью 1903 года был арестован.
Неволя оказалась для будущего писателя худшей из невзгод. «Тоска о свободе достигала силы душевного расстройства» и ночами находила выход в сновидениях, где он парил над Севастополем, а днём сны превращались в прозаические и стихотворные наброски, благо ему разрешали пользоваться карандашом и бумагой.
Вернуться в Севастополь Грину довелось только спустя 20 лет. Он без устали бродил по городу и не переставал удивляться, насколько точными оказались его фантазии. Жена и муза Грина, Нина Николаевна, отмечала: «Он говорил, что красота и своеобразие Севастополя вошли в него настолько, что послужили прообразом Зурбагана и Лисса». «Пытаюсь понять, что в этом цветущем белом городе даёт такое сильное впечатление?» – задумчиво произнёс Александр Степанович. И сам же ответил: «Всё, что пережил Севастополь, не обугрюмило его лица, не стёрло улыбку мудрости и простоты». И ещё запомнилась подруге неистового мечтателя «бухта, где сновали суда с белыми, жёлтыми, розовыми парусами».
Мир, озарённый войной
Крым в образе алого паруса впервые вспыхнул в сознании Грина на жестоком переломе эпох. Шла Первая мировая война, назревала революция, переросшая в Гражданскую войну. В 1919 году Грин был мобилизован в Красную армию. Суровый быт не располагал к творчеству, но в солдатском сидоре рядовой Гриневский бережно хранил исписанные листочки будущей феерии: «Близость её согрела мою душу, словно паутинкой неразорвавшейся связи со светлым миром мечты».
Первыми узнали об «Алых парусах» обитатели «Дома искусств» – писательского общежития, где Грин получил койку в давно нетопленной комнатке. Чтение происходило в конце 1920 года, в промозглом и голодном Петрограде.
В 1923 году увидел свет роман «Блистающий мир». Время было финансово нестабильное, бумажные деньги очень быстро обесценивались, и Александр Степанович обменял ассигнации на полновесные золотые монеты. И тут же удивил Нину Николаевну неожиданным предложением:
«Давай сделаем из «Блистающего мира» не комоды и кресла, а весёлое путешествие. Не будем думать о далёких завтрашних днях и сегодняшних нуждах, а весело и просто поедем в Крым. Ты никогда не была там, а я был и люблю его.
Едем в Крым и, пока не истратим всего этого блеска, не вернёмся. Пусть это будет нашим запоздавшим свадебным путешествием. Согласна?»
Мечта сбывается
Яркие впечатления от Ялты и Севастополя не могли затмить заветную мечту о собственном доме. В 1924 году эта идея начинает приобретать отчётливость.
Нина Николаевна, желая вытащить супруга из богемной столичной жизни, настаивает на переезде из Ленинграда в Крым. Местом жительства была избрана Феодосия. Город не только оказался по карману, но и, главное, пришёлся по духу: здесь семья прожила «четыре хороших, ласковых года». Грин был в зените своего творчества: один за другим выходят романы «Золотая цепь», «Бегущая по волнам», «Дорога никуда».
Рассказывает Нина Грин: «Александр Степанович позвал меня и стал читать. Чем дальше читал он, тем больше казалось, что с души моей сходит какая-то грубая кожа, что я становлюсь старше и мудрее. Я заплакала. Тепло и благодарно мне, что есть у меня любимые и крепко любящие меня».
Любовь имела вполне материальное выражение: получив аванс за будущее собрание сочинений, Александр Степанович подарил Нине Николаевне изящные золотые часы, пожелав ей: «Пусть эти часики будут воспоминанием о самых лёгких днях нашей жизни!» Но вскоре эти дни стали тяжёлыми, а затем трагичными. Творчество Грина оказалось несозвучным времени: часики отсчитывали оставшиеся мгновения Серебряного века русской литературы, которые уже затмевал грохот наступавшей стальной эпохи.
Эта дорогая вещица дала Нине Николаевне возможность «сделать последний подарок Александру Степановичу – дать умереть в своём доме, о чём он так долго мечтал и чем так недолго наслаждался».
В этой дикости – покой
Домик в Старом Крыму, куда чета Грин перебралась в 1932 году, был неказист: земляной пол, саманные стены. Но к появлению нового хозяина стены были тщательно побелены, а пол был усыпан душистой зелёной травой: Грин вошёл в свой первый и, к сожалению, последний собственный дом в праздник Святой Троицы, или Духов день.
Вот ведь парадокс: полновластный владетель «воображенья края священного», где Фрези вольно бежит по волнам, Друд не знает земного притяжения и Грей поднимает алые паруса мечты, «писатель странный и неровный», был бесконечно счастлив, получив крохотный домик, где не было ни одного прямого угла, с низкими потолками и глинобитным полом. Зато из окон открывался вид на палисадник.
Уже тяжело больной, Грин писал: «Давно я не чувствовал такого светлого мира. Здесь дико, но в этой дикости – покой. И хозяев нет». Бог не дал детишек, но он любовно вьёт гнездо – буквально строит дом! – для приёмышей: ястребёнка Гуля и щенка Кука. Вот он, кстати, бронзовый, прилёг под раскидистой грушей, которая помнит Грина. А вот алыча, глядя на которую Александр Степанович строил планы на будущее: «Здесь я напишу столько произведений, сколько плодов бывает в урожайный год на этом дереве».
Здесь нечасты посетители: как говорится, чужие тут не ходят. Но это и хорошо: можно спокойно посидеть на лавочке и подумать в тиши о многотрудной судьбе неисправимого мечтателя.
Душа просила покоя
Большая советская энциклопедия официально назвала Грина мистиком. Следует признать, что официоз социалистического реализма был очень недалёк от истины. Об этом красноречиво свидетельствуют факты, связанные с его могилой на старокрымском кладбище.
Полвека назад над скромным обелиском поднялась алыча. Лесное дерево, дикая родственница сливы, была по осени усыпана ярко-красными плодами. А на нижних ветках и на ограде трепетали под ветерком пионерские галстуки. Такова была странная традиция, идущая ещё из средневековья: паломники, приходя к могиле праведника, оставляли здесь частицу одежды. А в те же времена, когда неумные критики объявили сочинителя «странно-волнующих книг» космополитом, кто-то написал на плите: «Романтики всех стран, соединяйтесь».
Нынешний памятник в виде раскинувшей крестом руки Фрези Грант появился в 1997 году, когда Верховный суд Крыма полностью реабилитировал вдову писателя, сняв с неё ложные обвинения. А спустя год могила была осквернена: бронзовая скульптура исчезла. Милиция быстро вычислила и задержала ранее судимого 26-летнего местного жителя, который признался, что разрушил памятник в надежде заработать на продаже цветного металла. Фигурку, уже распиленную на части, восстановили, но самое интересное в этой истории то, что вандал, изуродовавший памятник, оказался внуком бывшего начальника МГБ, через руки которого проходило в своё время дело Нины Грин.
Иван КОВАЛЕНКО, краевед