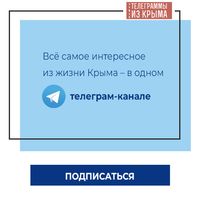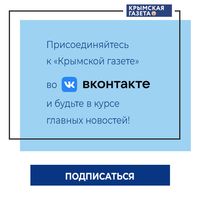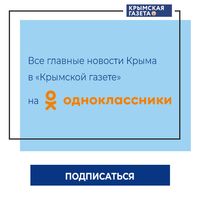«Люди хотят быть замеченными»: солист музыкальной группы, основатель вокальной студии и педагог Даниил Смирнов о курьёзах на выступлениях, скрытых талантах и вокалотерапии.
КОЛЕСО БАЛАНСА
– С какими запросами чаще всего приходят к вам?
– Есть такое понятие – колесо жизненного баланса: работа, семья, хобби. Если одно из направлений провисает, всё рушится. Люди приходят ко мне за внутренним равновесием. Хобби – это способ отвлечься от быта, сбросить напряжение, дать выход накопленной энергии. Вокал даёт возможность побыть в другом мире, где можно кричать, петь, звучать. Люди всегда хотели быть замеченными, и это не изменилось. Кто-то хочет, чтобы друзья сказали: «Ты круто поёшь». Кто-то – чтобы родители наконец-то увидели, что он способен на большее. Это попытка заявить о себе. Быть услышанным.
– Чем отличается пение «для души» от «в технике»? Можно ли их совместить?
– У меня был ученик, который на первом занятии признался, что далёк от вокала. Я попросил его спеть, и он выдал прекрасное владение голосом. Я удивился. Оказалось, что он в машине по 30 минут по пути на работу и обратно, пять дней в неделю, подпевал своим любым песням. За 12 лет такого «караоке» развивается слух, человек попадает в ноты, хоть и не знает анатомии голоса. Это уже хороший вокалист. Если бы был педагог, результат пришёл бы быстрее – за 2–3 года, а не за десятилетия.
Притом некоторые, закончив музыкальные школы с теорией и сольфеджио, всё равно поют плохо. Теория не всегда даёт гарантию. В вокале, как и в спорте, знать не значит уметь. Для тех, кто хочет петь просто «для души», у меня своя программа, где я не давлю объёмом упражнений, чтобы сохранить огонёк и желание петь. А те, кто стремится к мастерству, получают ту же программу, но интенсивнее.
– С какими внутренними блоками сталкиваются люди чаще всего и как это проявляется в голосе?
– Очень многие приходят зажатыми. И часто с травмой: кто-то сказал им, что они поют плохо. Эти слова ранят на годы. Одна моя студентка когда-то пела в вокальном ансамбле университета. Поёт она прекрасно. Но девчонки сказали, что она «не тянет». И она замолчала на шесть лет – вообще не пела. Мы занимаемся уже четыре года, а я всё ещё с трудом уговариваю её выйти на отчётный концерт. И это при том, что она уже пишет авторские песни, звучит на крымском радио, а её треки попали в плейлист главного музыкального стримингового сервиса страны. Есть и парень, который пришёл без вокального опыта, заинтересовался, втянулся – и открыл собственное караоке.
Интересно, что 90% студентов приносят грустные песни. Это не моя инициатива – просто так устроена наша поп-культура: в ней любимые темы – любовь, драма, потеря. Взрослые особенно часто приносят свой жизненный багаж и поют о нём. Это помогает. Как в индийском кино: спел – стало легче.
– Часто ли плачут ученики во время таких песен?
– Да. У меня есть ученица, ей 40 лет. У неё сын с особенностями развития. Она выбрала песню «Не сдавайся никогда», и мы просто не смогли дотянуть её до концерта. Петь на публике невозможно: эмоции захлёстывают…
– А если взглянуть на это с научной стороны: как на мозг влияют весёлые и грустные песни? Какие полезнее?
– Весёлая музыка активирует систему вознаграждения. Включаются зоны, связанные с удовольствием: миндалина, гиппокамп, префронтальная кора. Это повышает креативность. В одном исследовании люди, слушавшие позитивную музыку, справились с творческими задачами лучше остальных. Под весёлую музыку мы склонны видеть радость в лицах окружающих, под грустную – замечать печаль. При этом грустная музыка вызывает сложные чувства: с одной стороны, она кажется трагичной, а с другой – даёт ощущение уюта, романтики. Она помогает проживать эмоции, переключаться с внутренней тревоги на внешнюю. А ещё запускает воспоминания. Поэтому и то и другое важно.
В ПОЖАР И ЛИВЕНЬ
– Вы также солист группы. Бывали ли на сцене ситуации, когда всё шло наперекосяк? Как выкручивались?
– Осенью было нечто особенное – свадьба на Южном берегу Крыма. Всё как в кино: отель, бассейн, панорамный балкон. И вдруг – ливень: мокнут гости, намокает аппаратура. Нас начинает бить током. Гитары, микрофоны, удлинители! Один гитарист вообще не мог дотронуться до струн. Мы бросаем инструменты, просим у ресторана мусорные пакеты, надеваем их на ноги – чтобы разомкнуть контакт с водой. В результате мы в блестящих сценических костюмах, на каблуках, но с мусорными мешками по колено – и продолжаем играть. И знаете, это сработало: гости плюнули на дождь и начали танцевать прямо под ливнем.
Мы выступаем больше 14 лет и к таким форс-мажорам готовы. Даже если выключат свет – поём акапельно, идём по столам, включаем гостей в шоу. Главное – не терять драйв. Недавно у нас в гримёрке загорелась сумка. Внутри был пауэрбанк, и он воспламенился от жары. Начался пожар. Загорелся стул, затем штора. В сумке у звукорежиссёра были паспорт, деньги, ключи – всё сгорело.
– Что делали, когда голос пропадал?
– Это случается часто. Вот, например, когда свадьба и первый танец молодожёнов под мою песню – отступать нельзя. Люди полгода готовятся к этому дню, бронируют нас, площадку, ведущих, и я не имею права не выйти на сцену. Даже если голос сел, приходится импровизировать: обходить сложные ноты, менять подачу. Слушатель чаще всего не заметит: голос звучит – и хорошо. Дома есть небулайзер – им пользуюсь перед выступлениями.
– А как же методы – стопка горячительного или сырые яйца?..
– Это не работает. Пищевод и дыхательные пути не связаны, яйца просто не дойдут до голосовых связок. А вот сальмонеллёз – легко. Алкоголь тоже ни на что не влияет, кроме как, возможно, на уверенность.
– То есть зачастую тут работает психосоматика?
– Да. Над гортанью есть черпало-надгортанный сфинктер. Когда он сжимается, человек физически не может издать звук. Это реакция на стресс, отсюда и «ком в горле». То же самое с высокими нотами: человек их может брать на распевке, но боится в песне. Это психика. Я, конечно, стараюсь поддерживать, напоминать, что ученик справится. Но иногда нужен уже не педагог, а психолог.
– Выступали ли вы в нестандартных условиях – странные площадки, публика, сет-лист?
– Плейлист мы не даём выбирать заказчикам: они не понимают, где интерактив, где медленные песни, а где быстрые. У нас 180 композиций, и, если выберут только грустные, праздник пропал. Был случай, когда координатор перепутал стоп-лист и плейлист. Нам дали 10 песен, которые, как оказалось, категорически нельзя было играть. А мы их и сыграли. Заказчик потом подошёл и говорит: «Вы специально спели всё то, что запрещено было петь?» Но добавил: «Было классно, народ танцевал».
А по площадкам – мы в Крыму. Тут любое место уникальное: Белая скала, лавандовые поля, пещеры. Но вот гримёрки… Мы переодевались в туалетах, на кухне, в машине, под столом, за шторкой. Ввосьмером. Одновременно. Потому что время поджимает, а условий – ноль.
ЛЮБАЯ НОТА ДОСТИЖИМА
– Правда ли, что петь может каждый? Или это байки с мотивационных тренингов?
– Так же, как каждый может сесть на шпагат, если тело здорово. Кому-то нужно шесть месяцев, кому-то – три года. То же с голосом: если нет патологий, петь может каждый. Говорение и пение отличаются незначительно: начинаем тянуть гласные – и вот уже поём. Слух – это навык. Можно научить отличать ноты: сначала простые, потом сложнее. Главное – здоровый голосовой аппарат и терпение. Всё остальное – дело техники.
– Почему же тогда на выступлениях именитых артистов часто слышится фальшь? И репутация складывается такая, будто человек может петь только с автотюном…
– Как шаг никогда не будет абсолютно идентичным по длине, так и голос не может звучать одинаково идеально каждый раз. Исполнить песню «как на записи» почти нереально. На это влияет всё: недосып, плохое питание, стресс. И это не всегда про слух. Бывает, человек точно знает нужную ноту, но связки в моменте берут другую: организм решил так. Это нормально. Мы живые. Можно найти видео, где и легенды вроде Уитни Хьюстон поют мимо нот. У неё были зависимости, здоровье уже подводило. Стабильности нет ни у кого. Даже звезда может не попасть в ноту, потому что просто «не с той ноги встала».
– Сколько времени вам нужно, чтобы сделать поющего из совсем непоющего?
– У меня был ученик, который плохо слышал ноты, не попадал, – а через 6–7 месяцев он уже поёт Димаша. Широчайший диапазон, всё чисто. Я сам в шоке. А бывает, кто-то ходит два года, но результат не тот, на который я рассчитывал. Разный темп у всех.
– А когда он к вам пришёл, вы увидели в нём потенциал?
– Нет. Абсолютно. Я думал, что будет тяжело. А он взял и удивил.
– Какие методики используете при обучении вокалу?
– Я работаю по методике, основанной на физиологии, а не на «образах». Не прошу студентов «посылать звук в затылок» или «петь в лоб». Это абстрактные формулировки, основанные на ощущениях педагога. Но как можно ориентироваться на чьи-то ощущения? Это всё равно что пожать руку с усилием на «шестёрку» и надеяться, что собеседник почувствует ту же «шестёрку».
Мы разбираем анатомию голосового аппарата: черповидный и щитовидный хрящи, атаки, смыкание голосовых складок, анкеровку. Это не абстрактные ощущения, а чёткие техники и структуры. В практике много сложных приёмов, таких как йодль, ратл, работа с ложными голосовыми складками. Всё гораздо глубже, чем просто «дышать глубже». Мы учимся понимать, как и почему звучит голос, как его можно контролировать и менять. Мы даже используем ларингоскопию: я показываю наглядно, как устроен голосовой аппарат. Это даёт точное понимание, что именно работает при звукоизвлечении.
– Сейчас в интернете много педагогов по вокалу, и чем, казалось бы, абсурднее их методика, тем они популярнее. Есть ли от этого толк?
– Это всё очень далеко от науки. Голос создают связки – они и есть источник звука. Мы не можем петь ни грудью, ни головой, ни животом. А то, что предлагают педагоги, – это их личные ощущения.
– Но диафрагма – это ведь действительно база вокала, как нас учат в музыкальных школах…
– На самом деле диафрагма не имеет нервных окончаний. Мы не можем её ощущать. Это как если бы я попросил вас почувствовать почку, то есть невозможно. Мы ощущаем верхнюю часть брюшного пресса, давайте называть вещи своими именами. Классики вроде Адель или Селин Дион пели по методике бельканто – ей больше 200 лет. Но разве мы сейчас лечим по медицинским книгам XIX века? Почему тогда в вокале мы до сих пор опираемся на эти архаичные методики? Современные исследования, такие как Estill Voice, показывают, какие мышцы реально задействованы при пении, – не только диафрагма, но и широчайшие мышцы спины, и сосцевидные мышцы шеи. Сейчас можно обучиться вокалу значительно быстрее.
– Хотите сказать, что в государственных методичках отставание?
– Абсолютное. В Крыму нет эстрадно-джазовых отделений. Это абсурд: подростку 17 лет хочется петь современную музыку, а его отправляют учиться петь оперу. В КИПУ и КУКИиТ тоже только академическое направление. Хотя спрос огромен. Люди просто не могут выбрать то, что им ближе. Если бы был выбор, 90% студентов пошли бы на эстрадный вокал. А пока учатся тому, чего не хотят. И это грустно. Эстрадно-джазового отделения в учебных учреждениях у нас нет, к сожалению, а академический вокал не всем подходит. Поэтому многие идут в частные школы.
– С кем труднее работать – с теми, кто стесняется, или с теми, кто уверен, что уже звезда?
– Обе крайности тяжёлые, но с зажатыми тяжелее. Тот, кто считает себя звездой, может петь мимо нот, но делает это настолько уверенно, что никто не замечает. А вот зажатые в студии делают всё классно, но выходят на сцену – и всё разваливается. Вижу сразу: судороги в руках, микрофон держат двумя руками, тело зажато. Понимаю, что сегодня будет провал. И всё, что мы нарабатывали, обнуляется. Но только сцена помогает преодолеть страх. Только через регулярные выступления можно это победить.
– Кстати, почему некоторым страшно петь, особенно вживую, перед людьми? Как с этим справиться?
– Я всегда говорю: зрители на вашей стороне. Они пришли слушать, а не критиковать. Они хотят, чтобы вы выступили круто. Осознание этого часто снимает блок. Люди не враги – они публика.
– Есть ли у вас телесные практики, которые помогают ученикам заземлиться и расслабиться перед выходом?
– Простая дыхательная разминка – вдох на 5, выдох на 10 – помогает. Есть и шуточный способ: представьте, что все в зале голые, и только вы одни в одежде. Это переключает фокус внимания. Но всё же главное лекарство – сцена. Чем чаще выходишь, тем спокойнее. Со временем сцена становится родным местом, где ты просто делаешь своё дело, без страха.
– Можно ли научить человека брать высокие ноты, если у него нет ни вокальной базы, ни слуха?
– Сначала надо прекратить навешивать ярлыки: «у тебя низкий голос», «у неё альт», «у них сопрано». Эти классификации – из хоровой системы. В реальной практике это не имеет смысла. Часто человеку говорят, что у него низкий голос, а потом он даже не пробует брать высокие ноты. Хотя дело не в диапазоне, а в тренировке. Есть два главных фактора: первый – это насколько сильно растягиваются голосовые складки, как мышцы при шпагате, а второй – это каким способом они смыкаются (фальцет, белтинг, микст). Если тренироваться постепенно, как с растяжкой, без надрыва, то и высокие ноты станут доступны. Любая нота достижима, если есть связки, дыхание и упорство. У всех есть руки, как и у любимой певицы. У неё пять пальцев – и у вас тоже. Разница лишь в тренировке.
– Есть ли у вас «любимые» музыкальные стереотипы, которые раздражают?
– Меня раздражают бесконечные дыхательные упражнения. Особенно дыхание «по Стрельниковой». Это методика для тех, кто восстанавливается после туберкулёза, а не для вокалистов. Почему её до сих пор продвигают в вокальных школах? Часто эти упражнения приводят к гипервентиляции: темнеет в глазах, особенно если делать их стоя. Они должны выполняться сидя, чтобы не упасть в обморок. В жизни мы дышим неосознанно: идём по улице, думаем о чём угодно – дыхание не прерывается. В песне то же самое: дыхание должно работать на автомате. Если вы думаете о каждом вдохе – это уже ошибка. Если в песне не хватает воздуха, значит, мы просто пропускаем места, где оригинальный исполнитель делает вдох. Поэтому нет смысла заниматься бесконечным дыханием. Поверхностные дыхательные привычки можно развивать, но, если не хватает воздуха в песне, это проблема исполнения, а не дыхательной гимнастики.
Диана МАСЛОВА
Подписывайтесь на наш канал в Дзен