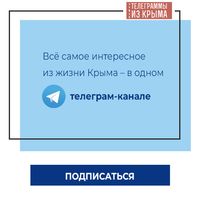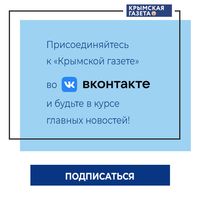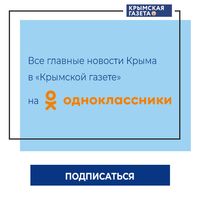В нынешнем году тема крымского казачества приобретает особое звучание в связи с двумя знаменательными датами: 230-летием Михаила Хомутова – атамана Войска Донского, защитника Керчи во время Крымской войны, и 165-летием Николая Самокиша – потомственного казака, мастера батальной живописи.
Сыны степи и свободы
Существует несколько версий происхождения казачества. Некоторые исследователи полагают, что это – особый этнос, зародившийся ещё в железном веке. Гипотетические предки казаков – скифы – населяли долины рек на территориях, протянувшихся от Северного Прикаспия до Северного Причерноморья.
Скифские племена, осевшие в степных и предгорных регионах Крымского полуострова, в соответствии с наименованием своего тотема – оленя, именовали себя саками. Важную подсказку даёт найденный в кургане близ села Штормового Сакского района замечательный памятник древней культуры, так называемый Оленный камень, ныне – экспонат Евпаторийского краеведческого музея. Силуэт грациозного животного, нарисованный охрой на известняковой стеле, датируется VIII-VII столетиями до новой эры.
Надо полагать, что в какой-то период в самоназвании народа появилась приставка -ка, давшая жизнь слову «касаки». Следует отметить, что во многих восточных языках слог -ка присутствует в понятиях, обозначающих независимость.
Непосредственно с Крымом связана первая фиксация слова «казак» в письменных источниках. Так, в «Кодексе куманикус» – словаре, составленном в 1303 году в Кафе (нынешняя Феодосия) или Солхате (Старый Крым), указан латинский перевод половецкого слова «казак» – «свободный», а также выражение «хасал косак» – «стража».
На суше и на море
Крымское ханство, поддерживаемое Османской империей, постоянно совершало набеги на русские земли, уводя в плен тысячи людей и разоряя поселения. Россия предпринимала ответные действия. На рубеже XVI-XVII столетий турки начали ощущать реальную опасность казаков.
В 1616 году две тысячи степных воинов совершили дерзкую морскую десантную операцию – захватили крепость Кафа, крупнейший центр работорговли. Лазутчики, в совершенстве владевшие турецким языком, отвлекли стражу, а тем временем их товарищи взобрались по лестницам на стены, бесшумно ликвидировали часовых и открыли ворота. Город был разграблен, но главной целью было не золото. Выполняя клятву: освобождать из неволи христиан, казаки выбросили большую часть захваченного добра, чтобы принять больше людей на кораблики «чайки».
В 1699 году казацкая флотилия во главе с атаманом Фролом Минаевым пришла в Керченский пролив с мирной целью: в составе эскадры донцы сопровождали корабль, на борту которого находилась российская посольская делегация. Над парусниками, бросившими якоря у Керчи, впервые взвились военно-морские Андреевские флаги, а капитаном баркалона «Отворённые врата» был царь Московский и всея Руси Пётр I.
Когда минули грозные годины
«Кавказский Суворов». Так современники называли полководца Петра Котляревского. Выходец из казачества, генерал-метеор отличился в войнах с Персией. При штурме крепости Ленкорань, которым руководил Котляревский, казаки были ударной силой. Взятие Ленкорани стало поворотным этапом в расширении российского влияния в Закавказье и последним делом генерала. Тяжёлые неизлечимые раны заставили его выйти в отставку. В 1838 году Пётр Степанович обосновался в Феодосии. Здесь, в имении «Добрый приют» спустя 13 лет завершился его жизненный путь.
Феодосия стала частью мирной биографии ещё одного героя кавказских сражений. Здесь проходил единственное в своей жизни обучение генерал Яков Бакланов. В 1825 году юноша поступил на службу в Донской казачий полк, квартировавший в Феодосии. В этом полку командовал сотней отец Якова. Он определил сына в уездное училище, где преподавали арифметику, русский язык, историю, географию, закон Божий. «В продолжение года прошёл я всю премудрость, и был первым из учеников», – вспоминал Бакланов.
Привык казак к огню и бою
Казаки отличились во время Крымской войны 1853 –1856 годов. За оборону Керченского полуострова отвечал генерал Михаил Хомутов, атаман Войска Донского. Опытный воин подчёркивал: в первую очередь надо обезопасить город с моря. Чтобы сделать пролив труднопроходимым для неприятельского флота, Хомутов распорядился затопить напротив батареи на Павловском мысу отслужившие свой срок суда. Летом 1854 года они отправились на последнюю стоянку. Так что Керчь вполне заслуживает собственного памятника затопленным кораблям.
Благодаря хорошо поставленной разведке казаки несколько раз заманивали врага в ловушку. Так, 8 сентября произошёл бой – «дело при Сеит-Эли и Сараймине: сбита конница англичан». Пятнадцать человек под началом хорунжего Кульбедина притворным бегством от деревни Сеит-Эли заманили до 200 английских гусар в засаду. У соседнего селения Сараймин британцев атаковал другой казачий разъезд. Всего противник потерял только убитыми 15 человек, у русских погиб один и четверо получили ранения.
Подвиг дивный и кровавый
Тяжкие испытания вынесла в Крыму во время Великой Отечественной войны 72-я Кубанская дивизия. Её костяк составляли станичники Ставрополья.
В январе 1942 года почти четыре тысячи человек с техникой и лошадьми переправились по скованному льдом проливу на Керченский полуостров. Когда в мае 1942 года фашисты сумели прорвать нашу оборону на Акмонайском перешейке, переправу советских войск на Тамань прикрывали казаки. Комдив генерал-майор Василий Книга был тяжело контужен и получил ожоги.
Казачьи подразделения заняли оборону в крепостях Керчь и Еникале и в Аджимушкайских каменоломнях. Вот что пишет в своих воспоминаниях один из уцелевших командиров: «Мы защищали несколько подземных галерей, вели бои за колодцы, отбивали их, чтобы напоить лошадей. Когда от голода и жажды животные обессилели, пришлось их резать и таким образом обеспечивать питание подземному гарнизону. Очень трудно было раненым. В нашей катакомбе не было ни врачей, ни медикаментов. Выживали только легкораненые, но был случай, когда выжил и тяжелораненый, наш кузнец: крепкий организм поборол тяжёлое ранение в грудь. Позже я встретил земляка в плену».
Здорово, конный человек!
Тема казачества красной нитью пронизала творчество советского поэта Ильи Сельвинского, уроженца Симферополя.
В начале 1920-х годов он произвёл фурор поэмой «Улялаевщина», посвящённой событиям Гражданской войны. Критики отмечали широкое использование казачьего фольклора и диалекта, неожиданное сочетание юмора и лиризма, гротеска и реализма.
В первые дни Великой Отечественной войны поэт ушёл на фронт, был назначен на должность «писателя» в армейскую газету. В феврале – мае 1942 года находился на Керченском полуострове, где разворачивалась «оптимистическая трагедия» Крымского фронта. Яркие впечатления военкора связаны с 72-й дивизией: «Наступление казачьей Кубанской. Танки сделали прорыв – мы рванулись в брешь. Атака! Но – грязь. Кроме того, поле оказалось заминированным. Танки застряли. Пехота не поддержала. Пришлось вернуться. Но атака остаётся атакой. Весело воевать на коне!»
В этот период Сельвинский создал цикл, объединённый казачьей темой. А год спустя написал стихотворение «Черноглазая казачка подковала мне коня…», которое стало народной песней.
Где сабля красная взвилась...
Навечно связал судьбу с Крымом потомственный казак Николай Самокиш.
Он навсегда запомнил саблю, висевшую в дедовской хате. В селе сохранялись старинные обычаи, и на праздники народ собирался погарцевать, показать умения в джигитовке. Наверное, с тех давних времён укоренилось в душе будущего академика батальной живописи стремление изобразить и грациозность лошади, и удаль всадника.
Когда революционная власть в 1918 году упразднила старорежимную Академию художеств, Самокиш уехал в Крым – поправить здоровье, пошатнувшееся после сырых окопов Первой мировой. Мастер продолжал, как и прежде, создавать крупные полотна, но теперь любимые баталистом кони слушались краснозвёздных бойцов.
Великая Отечественная стала пятой войной в долгой жизни Самокиша. Последней работой художника стал выразительный плакат: красный кавалерист занёс шашку над убегающим фрицем.
Иван КОВАЛЕНКО, крымовед.